[epi]БОЖЕ, ХРАНИ КОРОЛЕВУ ОТ МЕНЯ 05.08.2018
Edwin McLoughlin, Aegir Snyaleig

Твой стон напоминает Богу, что он жив.
18+[/epi]
[05.08.2018] Боже, храни Королеву от меня
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться12018-09-17 21:18:11
Поделиться22018-09-18 10:07:54
Фанатики в любой сфере - дело бедовое. Они порой не умеют отличать реальность от выдуманных законов, не умеют смотреть в корень, хватая поверхностные факты и извращая в свою угоду. Фанатики - люди сумасшедшие, безумные, одержимые сверхценными идеями. Фанатики - были в культе того, кто ратовал за отказ от правил и законов, но он не мог запретить им быть. Горящие глаза и трясущиеся руки, слова на незнакомом языке. Запах тлеющих трав, наскоро построенный алтарь и разложенные предметы - они хотели увидеть своего Бога, они хотели увидеть его и пасть на колени перед ним, доказывая свою преданность, прося благословение и пощаду, когда мир начнет рушится.
А Ньярлатотеп с радостью бы уничтожил все эти чертовы записки с описанием ритуалов, которые вызывают его.
Потому что вечно они вызывают в самое неудобное время.
Он сидел дома и медитировал, когда услышал смутный зов. Сидел, скрестив ноги, закрыв глаза и слушая музыку в стиле дзен, чтобы отдохнуть и насладиться своим отдыхом, а потом с новыми силами придти к Снежинке, чтобы устроить очередную горячую ночь. Он любил это делать, любил приходить и приносить с собой запах благовоний и сандала. А иногда сладкого, и с коробкой пирожного в руках. С баллончиком взбитых сливок, которые потом покроют нежное тельце белого и которые будет так вкусно слизать с его кожи.
Запахи жженых трав душат, и к ним присоединяется медь, оседающая на языке солоноваты вкусом. Кровь капает в глубокую чашу, дрожащие пальцы ловят ее и чертят узоры на бледных лицах. Шепот, шепот звучит, пронизывая пространства. Ийа, Ньярлатотеп, йиа, Ньрлатотеп, услышь своих детей.
И белое тело на алтаре в заброшенном доме. Белое тело, которые они добыли чудом.
Они безумны, они сами придумывают правила, в которые верят. Они знают, что их бог с этой жертвой, и что может быть сильнее, чем принести его избранника. Располосовать тело кинжалом, но он жив, еще жив, они докажут свою преданность убийством, но пока не, пока не.
Он дышит.
Может быть еще спит.
Может быть нет, и боль пронизывает его.
Но Ньярлатотеп слышит. Не хочет отзываться, но некоторые правила распространяются и на него. Он должен, и запах крови такой знакомый, такой... Это кислота, та кислота, которой он сам обжигался множество раз, неосторожно заигравшись, укусив сильнее, чем возможно, шипя от боли, но не обижаясь - это нормально, он сам виноват, хоть и не признается.
Йия, Ньярлатотеп.
И он пришел. Пришел, появившись в центре начерченного круга, а эти глупцы даже не создали защиту. Они радуются, они довольны успехом, они жаждут даров от своего повелителя в обмен на того, кого принесут в жертву, и кинжал уже заносится на сердцем окровавленного белого тельца.
- Нельзя!
Голос неожиданно прозвучал рыком, а глаза у Ньярла страшные, он увидел, он увидел, кого они положили на алтарь. Он увидел и он в ярости, в первобытной, дикой ярости, до оскала, то лимонного пламени в глазах. Его ноздри раздулись широко, они посмели поранить его Снежинку, его, ЕГО.
И щупальца метнулись к тому, кто держал кинжал, обвивая, сдавливая, словно кольцами удава, ломая руку с кинжалом, ломая ребра с мерзким хрустом, разрывающим воцарившуюся тишину. Он зол, он безумен, он в ярости. Это его, это его Снежинка, его Синяя фея, его, его, его.
Они поранили, пустили кровь, набрали в чашу, они...
Они падают на колени, умоляя о пощаде, но он уже в ярости. Он убьет их всех и плевать, что они все для него.
Они сделали то, чего не должны были.
Убить. Убить их всех.
Поделиться32018-09-18 10:51:30
Кинжал поёт, но не в его гортани, с ним никто не говорит, не может, наверное, кровь такая чёрная, глянец и гудрон, у него словно бы нет рук, у него открытые — не открывшиеся — раны поверх тех, что были стары и почти рубцы, по чужой воле, по наитию, кто-то листает и лакает, кто-то — не он, его больше нет.
Он не сразу понимает, что что-то вдруг не то, за ним по черну идут следом, но он не думает — мало ли, просто эхо, чужой след — он понимает слишком поздно, его обнимает за шею сильное, неумолимое, упирается локоть в горло, в губы — острый как удар запах хлороформа, выбивающийся в ноздри, судорожные, вдыхающие больше от безысходности, он правда не понимает, что нужно не дышать, что можно не дышать — он-то может, да только закрывает глаза — и в глазах дальше уже ничего, опадает, падает что-то из рук — шелестит и крошится развалившимися листами, у него в руках ноты, были — только белесый расписной разлет по ночным улицам, пальцы льдистые, нездешние, он выдыхает и спит таким страшным сном, будто бы его убили во второй раз.
Будто бы.
Они кричат, жгутся и кровь, кто-то говорит, что это не то, не совсем то, что они искали, и вообще нужна была девочка — кто-то незадачливо чешет голову, шею, смотрит — по-скотскому бездумно — спрашивает, а не так ли? Слышится крик, окрик — нет, не так, что-то про глупцов, со Змея сдирают последнее — жаль, что не кожу, кидают куда-то на пол, его самого — хребтом, очень остро, на перфоманс алтаря, лезвие блестит очень странно — и очень страшно секундой позже, когда перестаёт быть занесено, когда начинает опускаться и находит ось прицела — у Змея очень чёрная кровь, такая, что не сразу понятно, где свет, а где боль — кто-то кричит, хватается за щеку — попал в артерию, оттуда хлещет — фонтаном, замело и занесло ему лицо, лица у него больше нет — вопль такой, что хочется закрыть уши.
Змей не слышит.
Лица у них становятся нагими до самой кости, с пальцев слезает кожа и плавится металл — падает звонко об пол, отвечает эхом, кто-то корчится без рук и лица, щипает костями кость, не сразу осознавая, что нет слишком многого — только боли, и падает замертво следом, переставая кричать, кто-то смеет спросить, — что? что это такое? — только вот никто не отвечает, — надо начатое закончить, — отпихивает в сторону того, кто остался без лица, бёдра на алтаре — белые, хлыщет на пол — чёрным, — в перчатках, может? — кто-то заходит со спины, вернее, с откинутой головы, волосы — длинные, длиннее чем до — закрывают лицо, глазницы — синюшные, губы как переспелое сливовое, раскрываются, меж них — чернь, смрад, льётся на подбородок, Змей воротится по инерции, не раскрывая глаз, у него на пол рвёт кровью и желчью, кто-то наступает — кричит, а потом перестаёт быть слышим.
Потому что почему-то кричать начинают все.
Змей не слышит так упорно, что не может дышать, захлебываясь в крови.
Резные скулы, впадают щёки, глаза — раскрываются невпопад, как у куклы, как от удара, бьёт в уши вопль, хруст, почти костный, тошнотворный, у Змея опять льётся сквозь рот, сухо и горько, мысль возвращается к нему толчками, судорогой, лопнувшей веной, медленно втекая, как вытекает из — а потом только память, он видит Ньярла — он привык видеть его первым после того, как проснётся, и это почти, почти превращает ситуацию в нормальную, почти, — но у Ньярла такое лицо, что становится страшно, у Ньярла такие глаза, что его крутит хребтом в тонкий прут, он валится вниз, лицом вперёд, волосы укрывают снегом, а потом чернеют вдруг — всё наполнено и упоенно кровью, он скалит клыки как улыбку — чёрную, влажную, блестит лицо от вылитого, пьянит запах — странный, нездешний, в ноздри острием, под грудь, он хочет сказать что-то, да не может.
Эдвин кричит. Все кричат. Змей тоже — жалобно и нечеловечно, как раненный зверь — жаль, что на таких чудовищ клеток нет, кто-то тянет руки, только не к нему, они все тянутся к Ньярлу.
Кто-то говорит, что это их бог.
Кто-то, что он пришёл.
У ног Ньярла как у подножия истинного идола булькает кровью и хрипит костьми самая настоящая жертва, а Змея не хватает даже не мелочность слов — у кроется чешуёй, от шеи и ниже, лицо вдруг острится как у мертвеца — только дальше глаз ничего и нет, силы течёт из него реками, Змей больше не просыпается, тот, кто должен, у него вся сила — только руки, немеющие как на ветру, протянутые, пусть и мысль оказывается быстрее, находит цель чуть раньше пули.
У него непослушный распухший язык.
Это не мешает говорить Ньярлу, что ему больно. Что он ничего, совершенно ничего не понимает. Что он сейчас всё. Что они — всё.
У него сквозь губы только падает черным черно.
Это не мешает кричать ему в голос.
Это не мешает ему молиться богу, который простит грехи только ему одному.
Поделиться42018-09-18 15:41:06
Ньярлатотеп был таков, что редко гневался по настоящему. Нет, конечно, он злился часто, но даже когда был зол, то сохранял улыбку - кривую, как проведенную неумелой детской рукой - смеялся, пусть горько и хрипло, но смеялся.
А сейчас.
Нет, он не смеется. Так непривычно видеть его без улыбки. Он словно не он вовсе, а это что-то другое. Что-то очень древнее, что-то очень зловещее. Что-то... Даже не кто-то.
И чем слабее становился стон его Снежинки, тем ярче разгорались его глаза и тем сильнее его обуревала буря эмоций, злобных, неукротимых и мстительных.
Он отомстит. За эту похоронную песнь, что поют синюшные губы, как у мертвеца - синюшные. Как выдержанное сливовое вино. Как улыбка утопленника. Они поют песню, которую слышит он один.
Больно, больно, больно.
Слова бьются о висок, раскалываясь на части, на осколки, осыпаясь вниз и стеклами под босыми ногами раня.
Больно.
Он обещал, что не будет. Только не тогда, когда он рядом. только не тогда.
Тебе не должно быть больно, белая королева, я здесь, я с тобой. Я защищу от боли.
Но пока.
Пока он в ярости. Плавится его кожа, обнажая бугристый пурпур, вьются щупальца и раскрыта широкая, слюнявая пасть. Он хочет вернуть всю боль, забрать у Эгира и вернуть с троицей. Он сделает это, сделает, он уничтожит всех их, посмевших покуситься на его, на него, глупцов, что думали, будто ублажат Бога, убив его любовника. Какой вздор.
Он издает оглушительный рев, припадая на передние лапы, оставляя глубокие борозды кривых когтей на полу и скользит своими отростками, обвивая руки, ноги, шеи, захватывая всех, всех их. Кто-то понял, что пахнет жареным, кто-то пытается бежать - дверь закрыта на ключ, сами себя поймали в смертельную ловушку. Бьются, словно мотыльки о раскаленное стекло лампы, и ломаются так хрупко, так быстро, с хрустом и криками.
Он не щадит никого. Никого. Он слышит мольбу лишь единственного в этой комнате, и лишь единственному подарит свою милость. Остальные умрут. Умрут страшно, умрут болезненно, от сломанных костей, от кровоизлияния в мозг, от удушья. Его щупальца словно змеи, скользят по воздуху, обвивают и заключают в смертельные объятия. Кости трещат, кости поют, бьются словно ритуальный колокол, звон и хруст, вопль и хрип.
Не осталось никого. Все погибли, все они, хоть кто-то еще и шевелится, на последнем вздохе, пытаясь схватить воздух ртом, но лишь исторгая кровавые брызги с губ.
Не осталось никого, кроме жертвы, что так и не была принесена.
У Эдвина - уже Эдвина - трясутся руки, медленно угасают глаза, когда он подходит к алтарю, раскидывая трупы со своего пути и опускаясь к лицу Змея.
- Тшшш... - тихо шепчет, проводя пальцами по щеке, обжигаясь о его кровь, но не обращая внимания на это. Склоняется, касается губами лба - как покойника, но он его не хоронит, нет. Он отрывает кусок ткань от одежды ближайшего мертвеца и вытирает кровь-кислоту с лица Снежинки, пережимая его рану, тихо шепча, баюкая, впервые жалея о том, что не умеет лечить.
- Всё будет хорошо, - говорит уверенно и крепко, чтобы не было сомнений, не позволяя голосу дрожать.
- Закрой глазки...
Он прижимает ткань к ранам, которые кровоточат кислотой, прожигая дыры в ткани, прожигая его пальцы, которые вступали в неравный бой с повреждениями, отчаянно регенерируя кожу. Утыкается лбом в лоб Снежинки. Больше не отпустит его одного никуда, никуда.
И забирает в мир грез.
А там с белым всё хорошо. Это иллюзия, это сон, но вокруг бесконечная звездная пустошь, и в пустоте зависли они вдвоем, наступая на черное стекло, под которым - ничто.
- Ты справишься, - черные глаза напротив уже не горят, в них лишь сожаление и болезненность. Он чувствует чужую боль, чувствует чужой вздох, вдох и выдох, судорожные, старательные. Он рядом, он будет здесь, забирая всё боль, блокируя её, ставя на пути баррикаду.
Не чувствуй этого, нет нет. Он обещал, что без боли.
Её не будет, не будет.
Эдвин крепко обнимает свою Снежинку, впервые... Нет, уже во второй раз пытаясь исправить, а не разрушить. Починить, а не сломать. Он это плохо умеет, но он будет пробовать снова и снова.
- Помнишь?
Помнишь ли ты эту пустошь. Помнишь, как мы здесь гуляли. Помнишь, как занимались любовью на бирюзе песка, вокруг звезд, вокруг комет и астероидов, над великим Ничто.
Помнишь...
Он смотрит в глаза и закусывает губу. Так сложно чинить. Сложнее, чем разрушать.
Но он постарается.
Поделиться52018-09-20 11:03:38
Эдвин говорит с ним как будто бы очень издалека, хотя расстояние между ними только пальцами мерить — расстояние между ними в кости сложено, посчитать бы все рёбра, изломы, трещины, на губах у всех скользко, да только все молчат, ему было бы больно, но слово забылось — забылось так много, и резко бьёт в ноздри остаточный сонный газ, у него в лёгких только он, кровь да пару шансов на вдох, может, даже на выдохе, но и на том у Змея всё влажно и черно, он забывает слишком многое, забывает, что не нужно кричать, не кричит — больше по рефлексу, и по тому, что весь его мир в глазах вдруг становится одними только глазами — те мерцают жёлтым, плавятся, чернеют.
Эдвин. Ньярл.
Змей улыбается ему, рот похож на рану, но иначе не выходит, края ползут вверх, словно тянущиеся иглами, обнажаются зубы — мелкие, чёрные, что-то хлипко пузырится у него во рту, вспорота грудь ближе к горлу, жаль, что не сонная, жаль, что так мало и неглубоко, даже не больно, просто очень-очень горько не глотать свою же кровь, потому что он боится захлебнутся. Задохнутся — и кашляет, кашляет, кашляет, ищет в себе шанс на свободу и вдох — находит, дышит, потом вспоминает, что для слов тоже нужно дышать, и глаза Ньярла горят, горят, горят — а потом только гаснут.
Но только змеиные.
Он закрывает веки. Янтарные глаза плавятся у него по щекам чёрной смолой липких матовых слёз. Янтарные глаза не хотят видеть. В них станет — как мушка, бабочка, росток, всё то, что так ломко временем — лицо. Не его. Кого-то кроме, кого-то выше, кого-то, кто здесь ещё остаётся жив, пальцы не гнутся, поёт кровью капель на пол — раз, раз, раз, он убирает руку, свисающую, сдвигает к груди, больше не звучит, он слышит только сердце.
Его сердце с ним говорит.
Слова до стоили ему слишком многого, такого, что на новые — те, что в воздухе дрогнут и замрут — сил уже нет, опять льётся изо рта, неясное, путанное, вязкое.
— Ньярл.
Он не сразу понял, что говорит. Не сразу — что может, реальность рушится над ним, расползается глубокой неровной трещиной, больше похожей на его попытку улыбнуться.
Сказать, что всё хорошо. Что ему не больно. Что он прекрасно себя чувствует.
Чуть ли не в первые начать ему лгать.
— Что.
Сглатывает, принимает пальцы на щеке как дивную данность, водит зрачками под закрытыми веками — удивляется, почему ничего нет, это так больно, так обидно, такая — пустота, пустота остаётся с ним и в нём даже тогда, когда глаза вдруг оказываются широко раскрытыми, когда веретено зрачка вдруг плещется в золоте, в золе, в алеющем как кровь, а потом кармин медленно холодеет — и Змей смотрит на Ньярла лазорево и хладно, словно со звёзд.
— Что случилось...?
Со звёзд, где были только они одни.
Слушается. Только кривит губы именно на «справишься». Справится — конечно, куда ему, смотрит сквозь, смотрит внутрь, чему-то хочет смеяться, потому что отчасти это всё же ложь. На большую половину. На добрую половину ложь, но ему так не хочется делать больно кому-то кроме, кому-то кроме тех, кого больше нет, ибо пустота вдруг зияет как рана, обхватывает их и уносит, его — на руках и в руках, Змей закрывает глаза, открывает — и видит звёзды.
Пальцы вместо влажного камня скользят по бирюзе. Песок почему-то оказывается залит кровью спустя — раз, два, три, движение ресниц и губ — это сразу даёт понять, что ему больно.
Что он жив. Но не по-настоящему.
— Помню.
Кивает, шея гнётся слишком легко и слишком податливо даже для Змея, которому смерть пока не страшна, он тянется — опять — в него едва против воли и словно на эшафот, проваливается, уходит в глубь, ломается о что-то, режется, но итог так остр и изящен, так многослоен ответ, так гулко всё в нутре не у него — так звонко и жалобно, срываясь на вой.
Так больно, что он сразу всё понимает.
— Но мы не там, — побелевшие пальцы опускаются на шею, медленно врастают когти, не ласка — призыв не отпускать, — Но здесь красиво, — пауза, болезненная, фантомная, ведь боли нет, только отпиленные кости обычно прячут, а не держат как тень, — Почти как тогда.
Почти.
Оплетает его руками, бережно, пусть и самый ломкий здесь — Мировой Змей, кто-то покроил вечность на куски, где-то там в пробитых ранах сквозят кости и влажное чернильное нутро, но здесь он чист — и нетронут. Ньярл постарался. Ньярл создал лучший итог и исход.
— Не хочу здесь, — виснет на его руках, задирает голову, опадает — и сзади за ним вдруг рушится, взрывается мир, в синеющих глазах Змея разлетается пыль и пламя, горечь и мёд, потому что Ньярл действительно постарался, — Хочу, где море. Или снег. Покажи мне снег, Ньярл, пожалуйста.
Мы там спрячем раны.
Поделиться62018-09-20 14:28:46
Он держит Снежинку бережно, точно настоящий кристаллик снега, в горячих ладонях и так, чтобы не растопить, чтобы не убить. держит невесомо и мягко, как никогда и никого. Держит... Он здесь, он рядом, не оставит, никогда, ни за что. Не оставит, будет здесь, будет слушать, будет сцеловывать тихий шепот с губ. И держит, держит так нежно и неуловимо.
Кровь. Кислота.
На его пальцах рваные раны, которые медленно стягиваются. Это всё ерунда, это мелочи, не достойные внимания. Всё внимание только к белому. Сломанному, израненному. По вине иного.
Ньярл закусывает губу и раздувает ноздри. Это его вина, это его культисты. Фанатики, которые зашли слишком далеко. На недосягаемую меру, слишком далеко, слишком - туда нельзя, там запрет, закрыто, скрыто.
Они теперь наедине.
И впервые чувство вины. Оно колкое такое, холодное, как ком червей где-то в глотке. Как ледяной осколок под сердцем. Но он всё исправит, обязательно. всё будет хорошо, всё будет.
С синюшных губ срывается шепот, осторожные слова, почти неслышимые, и Иной склоняется ниже, чтобы слышать всё.
Склоняется, проводит пальцами по щекам, впервые жалеет, что не целитель, не может, не умеет. Лишь иллюзии, лишь неловкое "прости", лишь дрожь пальцев.
И воздух становится колючим, бьется в легких, о ребра, словно птица.
Этого не должно было произойти.
- Ничего... Ничего.
Ничего не случилось. Поговорят об этом позже. Чуть позже. Потом все слова, потом крик о прощении, о том, что не был рядом, о том, что не предугадал. Никогда не отпустит теперь, нет, не отпустит. Будет рядом, держать в руках, когда Мировой Змей оказывается слишком хрупким для этого мира и его реалий.
Невидимые щупальца скользят, касаются ран и охлаждают, трогая невесомо и невидимо, осторожно, аккуратно и без боли. Показать снег...
Он покажет всё, что угодно.
- Сейчас, малыш. Подожди.
Реальность сыпется, рушится пылью и разлетается, чтобы обнажить вечную мерзлоту, хлопья снега, теперь они там, где родное Змею. Взятое из фильмов и книг о далекой северной стране, где лишь лед и морозная клюква под снегом. Ньярлатотеп там никогда не бывал, он сын жаркого и далекого Египта, и снег северных стран видел лишь на картинках. Но он старается, выстраивая иллюзию, воспроизводя все звуки, все ощущения.
И северный ветер, дующий с серого моря - не обжигает, а ласково обволакивает, холодя раны, холодя и покусывая кожу мелко, почти что приятно.
- Всё, что угодно, Эгир. Всё, что угодно.
Он садится прямо в снег и подтаскивает Змея к себе, укладывая на колени, зарываясь пальцами в белые волосы, утыкаясь носом в макушку.
- Всё хорошо.
Слова судорожно слетают с губ. Нужно собраться, нужно быть всегда сильным и не поддаваться эмоциям, нужно сделать всё для Змея, облегчить его боль.
Облегчает.
Касаясь щупальцами его висков, забирая себе всё болезненное и слегка корчась, кривя губы и выплевывая черную субстанцию, набирая воздух в легкие, он кажется будто расплавленной лавой, будто вулканическим льдом. Это почти что больно. Это почти что...
Продолжает сидеть с ним, поглаживая по голове. Проклиная людей, глупых людей, что лезли туда, куда их не просили лезть.
- Я заберу твою боль, Снежинка.
Забирает. Себе, всё себе, все импульсы головного мозга, перехватывая, перенаправляя. Всё себе. И сжимая зубы, играя скулами, набирая воздух через ноздри и судорожно выдыхая.
Он снова не смеется. Хотя всегда...
Нет, не надо. Всё сейчас и здесь, всё будет хорошо. Будет?
Будет.
Еще немного, еще чуть чуть. Он обещал. Обещал, что без боли.
Он сохранит своё обещание.
- Тебе больно?
Осторожный вопрос. Утыкается лбом в макушку и выдыхает. Кажется, раны уже стягиваются. Кажется, что прошла целая вечность.
А северные ветра продолжали играть свой марш. И он продолжал нежно гладить, перебирая светлые пряди. Всё здесь, только с ним. Только, только...
Не знает, что сказать, дергает головой, словно шизофреник. Почему "словно"? Еще немного, еще чуть... Обвивает руками тонкого белоснежного, обвивает и прижимает к себе, создавая контраст между своим теплом и холодом снежной пустоши. Где-то в стороне кричат птицы, летающие над серым морем.
Всё сгорит в ледяном пламени.
Поделиться72018-09-20 18:39:26
Покажи мне снег.
Мир обращается в стекло, гнётся под ним тонко и совсем не бережно, рушится вдоль, падает сквозь, льётся ему в уши и изо рта, мир вдруг алеет, взрывается, отдаёт синевой, пахнет — сладко горестно, а может быть он только ненароком сглотнул свои же слёзы, он чувствует себя тяжко, свинцово, так, что гнёт вселенную, и та податливо гнётся под ним, мчится вниз, и увлекает за собой Змея — это не важно, за Ньярла он держится почти что с детской, умирающей нежностью, пальцы на удивление послушны, он ищет его шею, плечи, щёки, не сразу понимает, что на это хватает только губ — таких сухих и мёртвых, что они и не целуют вовсе — так, умоляют, бледнеют, а за нами бледнеет и всё, становясь из яркого призрачным, потом — прозрачным.
И только после он наконец видит снег, по которому так и не успел соскучится, потому что прошло меньше секунды.
А он научился, сжимаемый в объятиях, их не считать.
Разучился.
Это не тот снег, другой, роднее, жёстче и нежнее, этот — не дублинский разлитый по улицам на рождество, даже не тот, что кроет за хребтом засыпающие северные моря, этот — иной, как и всё, он готов смеяться от мысли, как тонко и родно Ньярл вычертил, вырезал именно это. Не хватает только тяжёлых железных ветвей Ярнвида над головой. Он поднимает глаза — вдруг там плещутся, плетутся, паутиной играют, виснут тяжко и впрямь — колыбель родного края, великановы стволы без права на коррозию, но.
Он видит только его глаза. Разлёт волос — чёрных. Реет небо — холодное, сиротливое, кричащее далёкими птицами.
Самое страшное в том, что он начинает всё понимать.
— Зачем они это сделали? — голос даётся звонче и проще слова меж липких измазанных губ, — Зачем, Ньярл?
Имён надобности назвать нет, как и нет и смысла — они так и остались там, немые, в изломах костей и стекла, брошенные на алтарь с потрохами, алтарь, который остался пуст.
Самое смешное то, что жертвой должен был стать он. Покорное опоенное хлороформом животное, пусть и самое страшное из, недвижимое, рычаг, призыв, просто обозначение, символ звук, — он морщится, прокручивая в голове соприкосновение стали с плотью, — он боится, и ему становится тошно от того, что оказывается хуже страха — он мог бы там умереть, не исчезнуть — просто умереть, но потом вернутся — иным, может, более злым, с чужим лицом, с ещё более тесной клетью под змеиную душу, может, без памяти или сверх того — без края.
Самое больное в том, что он хочет знать, полюбил бы тогда снова Эдвина МакЛафлина.
Мог бы зваться Снежинкой.
Или кем-то другим.
— Они не знали, да? Вот глупые, — он говорит это тихо и в чужое плечо, он говорит это так, словно не хочет слышать ответ, ответ он знает — и даже чуть больше, потому что Ньярла, вдруг сросшегося с ветром и обнимающего его руками, ему достаточно более чем — более чем, а ничего кроме и нет, только жалобно кричат, почти плачут птицы.
Так хочется, чтобы не по ним.
Боль — это очень просто, он соглашается без слов, врастая и впуская чужое — нет, нет, родное, уже — в себя как соломинку в ладонь утопающего, хватается так судорожно и ломко, что не остаётся сил кричать — а куда только, кому, в кого — в глаза, в чернильные, космические глаза — да в них как пулями, как следом, сворой и острым веретеном острием вглубь — своей кровью, такой кровью, что сожжёт мир, небо, а его — его не тронет, Ньярл чуть больше, чем мир.
Чуть больше звёзд. Он закрывает глаза. Чужое дыхание на слух вдруг оказывается голодней любой из колыбельных Железного Леса.
— Забирай, — он шепчет, но если бы он пел, ему эхом выли все звери всех холоднейших земель, раны закрываются врозь как голодные глухие рты, зарастают, обращаясь то в нить, то в рубец, прекращая алеть, чернеть, багроветь — и наконец снежно плавясь о кожу, холодную как.
Он умирал когда, но, правда, не помнит как и было ли то правдой.
Он на самом деле забывает сказать «не». Крикнуть. Отрицающе замереть головой. Не забирай. Ни за что. Она моя. Пожалуйста. Столько мольбы — и вся гаснет, утаенная, в глазах, а глаза гаснут под веками, исчерченными чёрными узлами вспыхнувших сосудов, у него чёрными от крови кажутся даже волосы — и тонкие ручьи нимба чужих богов кружат его голову как ореол, кружат вокруг них — как воронье, чернильная капель нема, и жалостливо под разливается, лопается лёд.
Он забывает, что не может так.
— Забирай, пожалуйста.
У него такие руки, что хочется умереть прямо здесь и на них. У него такие глаза, что хочется просить плакать. Замирает пальцами, а потом и грудью, и губами — у самого тепла, такое чувство, что забыл, каково это — гореть, сгорать, почему-то дальше только звучит в ушах слово «горечь», да только слёзы льются из одних только глаз, это те раны, что никогда не зарастут.
— Они говорят, что ты чужой бог, Ньярл. Не из нашего мира. Они все лгут, знаешь, так страшно лгут. Ты... вы есть везде. Всякое творение начинается с бездны. Сначала было Гиннунгагап, великое Ничто, Темнота и Хаос, а потом — всё вышло и появилось потом, не знаю, сколько звёзд так погасло. Почему ты никогда не говоришь о том, что ты есть везде? Почему ты остаёшься. Зачем. За что.
Так много вопросов, что он забывает дать самый главный ответ.
— А тебе больно?
Так много, что забывает услышать — и тянется, тянется вдруг, поднимаясь сначала на локтях, а потом и изгибаясь хребтом, открывая губы — мёртвые, потемневшие до белизны, шепчет без конца и края, и только потом — потом только целует, не думая ни о чём, ни о бездне, ни о алтарях, ни о том, что чужому лезвию совсем немного не хватило до сонной, что в ранах он видел своё же нутро — и оно на удивление черно, словно он болен чем-то кроме человечности, он не думает, что он Мировой Змей, и что он — вечность.
Он думает о том, что у губ Ньярлатотепа стойкий привкус его собственной крови.
Поделиться82018-09-21 12:47:35
Он не мог ответить. Не знал, зачем, за что, почему. Это просто люди... Люди бывают порой очень неразумны, словно забывая миллионы лет эволюции и превращаясь обратно в животных. Животные не думают, они ведомы инстинктами. Как эти. Они забыли, забылись, заигрались в творцов. Полезли туда, куда лезть нельзя, полезли в такие дебри, что любые джунгли по сравнению - просто мелкая роща. Это всё очень сложно, сложно объяснить, еще сложнее - понять. У него нет ответов, просто нет. Хотя казалось бы - всезнающий. Он не читал их разум, не выяснял, почему, а сейчас они мертвы и закрыты для его взора. Он не умеет читать мертвецов. Не умеет.
И белое переливается в его пальцах, Змей текучий и будто бы неуловимый, но Иной держит его, держит крепко и не отпускает. Нет, он не умрет. Всё будет хорошо, всё будет... А ведь когда-то он умел воскрешать. Умел ли? Да, кажется, да. Давно забытое мастерство, своего рода искусство, как у художника, что достает скомканный лист из мусорного ведра, разглаживает и собирает вновь образ, погибший и мертвенно синий, собирает и вдыхает в него жизнь. Так причудливо, так нереально.
Его пальцы скользят по белым волосам, он слушает тихие слова, фактически шепот, такой неуловимый и теряющийся в порывах ветра. Этот ветер холодит, но не обжигает, лишь ласкает израненное сердце. Два.
Он молчит, опустив голову, кусая губы, чуть кривя лицо, забирая себе боль. Да, ему больно. Очень. Но это такие мелочи... Он испытывал боль во много раз сильнее когда-то очень давно. Будучи лишь сгустком материи, что пожирал и был пожираем. Он обрел облик уже потом, потом, вырастая в нечто сознательное, противостоящее Отцу, что пытался его поглотить, не смог - смирился.
Больно. Росчерки болезненные, скользят по телу, оплетая будто змеями с ядовитыми клыками, что кусают, впрыскивают яд и всё внутри тянет и горит.
Мелочи. Мелочи.
- Мою природу сложно объяснить, - шепчет на ухо тихо, перебирая пальцами белесые пряди, - Я везде... Мы везде. Да. Но не иллюзия ли это? Быть может, мы просто спим и весь мир нам снится. Было бы... Больно, наверное. Я не хочу открывать глаза, если ты в моем сне, лишь в моем сне. Нет, я воскрешу тебя. Я подниму тебя везде и всюду, ты не умрешь. Ты со мной, Снежинка, теперь мы - звездный бог и Пояс Мира, теперь не по одиночке, мы вместе, мы слились воедино. Я забрал тебя в свою бездну. Ты не один. Тебя нет. Меня нет. Есть мы. Понимаешь?
Он шепчет хрипло, прикрывая глаза и боясь открыть их вновь, чтобы ничто не исчезло вдруг. Если он проснется. Нет. пусть этот сон будет вечным. Без начала и без конца. Как космос, как слезы далеких звезд. Пусть будет так, пусть будет просто... Звездная песнь и шум седого моря. А по отдельности их уже нет. Звезды и вода. Отражения мерцающих комет в поверхности вечно неспокойного океана.
- Да. Мне больно.
Не врет, не лжет, говорит как есть. Ему больно, но это такая ерунда. Он продолжает забирать, всё себе, всё себе - без остатка. Касаясь пальцами страшных ран, скаля розовые и серые от алой и черной крови зубы. Набирая воздух в легкий и выдыхая. Он всё вытерпит, всё перенесет. Обязательно.
Отвечает на поцелуй с готовностью, ищет чужие губы и находит, впивается с жадностью, словно к источнику вечной жизни. Целует, деля на двоих вкус крови - обоих. Она красная, она черная, она кляксами по снегу подле них.
И птицы продолжают петь свою невеселую песню под шум морского прибоя, бьющегося о скалы фьордов.
- Я с тобой.
Говорит коротко и твердо, не вызывая сомнений, не вызывая зыбкого ощущения нереальности слов. Он здесь, он рядом и не покинет, всегда будет, всегда - здесь, всегда - там. Рядом. Рядом с тем, с кем они становились едины. Однажды, быть может, хаос поглотит Змея, поглотит окончательно и бесповоротно и он станет един. Это могло произойти через миллионы лет, когда они оба срастутся уже так крепко, что один без другого не сможет существовать.
Ньярл не говорит об этом. Еще рано. Но малые части он уже поглощает прямо сейчас. Те, что отвечают за болезненность взгляда и ломких пальцев. Он держит Змея за руку и пожирает его боль жадно, будто Отец - нерожденных богов. Он где-то там, вечно жующий, султан всех демонов, всех миров. Великое ничто и сразу всё.
Однажды - всё станет им. И даже они.
Поделиться92018-09-21 17:59:28
Однажды всё станет стылым, застынет как глаза — кровь-глаза, стекольные, глаза-янтарь, молитвенные, глаза такие, по которым кричат птицы. Закрывает. Не видит. Только чует — у птиц чёрные мягкие крылья, синеющие, ночные. Волосы Ньярла падают ему на лицо. Птицы умирают в полёте и он, правда, хотел бы так же — но чуть иначе, не в полёте и не умереть, а наоборот — до конца и таять, и обязательно на тёплой ладони — он замирает в руках иного, будто бы так всё и есть, плечи у него влажные — больше от судороги и дрожи, чем от болезной талой тишины, начинающейся воем где-то в грудине и между рёбрами, что под килем гулкий шторм.
Выкричит горе.
Выплачет — море, а только осталось что? Стылость как поцелуй и вместо на губах колется — он от Ньярла отрывается, насильно, иначе это не назвать, а слово «больно» они говорят слишком часто, так, что от боли начинает тошнить — и уж целится что-то в горло, птицы мертвы, падают на снег, перетоптаны.
— Тебе больно? — у него в голосе такое неописуемое, словно их ему жалко, только здесь самые и не лживые, самые — потому что Ньярл говорил, что всё будет хорошо, но остался лжецом, останется, — напоминает себе Змей, сглатывая с вен чернь, — потому что потом-то точно станет лучше, может, даже станет им всем — кому? — двоим, сосредоточенным до мира, впихнутым в двоих, которые на самом деле мир, который...
О боли говорить совсем не обязательно. Он бы спросил его, с каких фотографий он срисовал такой снег. С каких вычитал книг, с каких выточил нег, нет — сам себе дёргает головой, порвался на шее тонкий шарнир, — Ньярл же может и так. Осторожно ищет ладонью ладонь. Птиц это не спасёт. У птиц большие крылья цвета нефти и войны, но они почему-то не успевают долетать до земли — и стремительно белеют, Змей не видит этого — оно происходит у него в сердце, но слишком отчётливо стоит перед глазами.
— Это не сон, не надо о снах, — оно ведь только и держит, потому что в яви Змей состоит из ран и камня, а здесь, а здесь пусть будет чуть лучше, анастетичней, слабей, его грудь состоит из клеток — и одной самой большой, где ветрам подвывает сердце, где по морю плачут слёзы, слёзы — а не он, они пусть будут чуждыми, они пусть будут не у него, а так — декорация, что-то вроде замедленного падения на нити, что-то вроде стекла-занозы на кончике пальца.
Когда ампула морфия разбилось недосточно хорошо.
Зачем знать так много о муках и о том, как их может не быть.
— Тебе нельзя с этой кровью внутри, нельзя, нельзя, — слепо шарит пальцами, пусть и глаза открыты, ведёт губами от губ и ниже, целует подбородок, по косой линии к горлу, утыкается носом, замирает — странно, голодно, чует пульс — за ним по коже чернеющий след, он прихватывает зубами — тонкое, на языке звенит сердцем — рванул бы, и всё забрал, но так нельзя — совсем нельзя.
— Она убивает долго, если оставить, — хочет сказать, что больно, но иному то понятно и без слов, — Прости, прости меня, — за что? почти кричит, выводит на его жилах, выдыхает, но вдоха следом больше нет, ему не за что молить — не за кого, но те и достойны были... достойны были всего, простить — за то, что здесь, что там, что под ним не рухнул и не прогнулся алтарь, не изошёлся трещинами камень, теми, что небо рвут в клочья, тишину и кожу — между ними, снежными, так мало разницы, до пугающего мало — как воздуха, он хватается за него по-рыбьи ртом, у него пальцы — вдруг замёрзшие, замершие, все птицы давно уже мертвы.
— Чего они хотели? Поднести? Наполнить? Завлечь? Им не нужна была моя сила. Им не нужно было заливать всё в крови. Не говори, что это просто случайность.
Тишина ломает кости ровно в секундное замирание между словами, тишины достаточно, чтобы Змей умер в том мире. Но Змей живёт. Змей помнит, что просил не называть сон сном. Это же не.
— Или ничего. Это было закономерно.
Закономерно не блевать маньяковой анестезией пополам с кровью. Закономерно не думать о смерти. Закономерно не понимать, что звук сломанного позвоночника и ещё десятка рёбер следом будет с ним ещё две ночи, если Змей, конечно, снова сможет спать.
Закономерно, что сможет. На руках. В руках. Как сейчас. Гладит его пальцы — пальцы похожи на чёрных птиц за секунду до, когда снег останется безмолвным, нежнее только волны моря без края и имени, нежнее только то, что они бьются о скалы.
Бьются насмерть.
— Не надо больше. Я не...
Не хочу так.
Не хочу больше так.
Не хочу видеть тебя так.
Не хочу слышать тебя так, словно ты больше не дышишь.
— Я не хочу убивать тебя, Ньярл.
Лучше наоборот.
Коронует его грудь единственным поцелуем, для которого не нужно дышать, стон ему заменяет ветер, разбивающаяся в клочья волна — лишь эквивалент объятия, тонкого — вокруг шеи, удушливо и милостиво, всего лишь — притянуть, но самому оказавшись рядом чуть ближе, чем до, чуть ближе, чем до того, пока они ещё были живы — сцеловывать кровь, опять, как забирая нерадивый дар, просить отдать, только вот забывая — как, слепо шарить, находить, теряться, блуждать пальцами в волосах, губами по коже, упираться носом в соцветие рёбер, оставляя следы, руны, которые никто кроме всё равно не поймёт.
Поделиться102018-09-23 10:23:32
Ядовитая кровь внутри тянет и отравляет, но Ньярл не придает значения. Он тащит эту ношу, потому что он хочет облегчить участь Снежинки. Пусть, пусть ему больно, пусть внутри всё горит, он не сдается, нет, он тащит. Продолжает, продолжает продолжать, вытягивать, обнимая белые, хрупкие плечи, хаотично касаясь губами щеки, скулы, шеи. Прижимает его ближе, сидя в снегу, которые не жжет морозным племенем, и только птицы всё кричат в вышине, выстраивая ломкий полет сквозь пространство.
Его руки, ладони скользят по телу белого, оглаживая беспорядочно и ласково, они уже вместе, и один без другого не может жить. Ньярлатотеп выбрал его, выбрал и врос собой, своей сущностью, заражая, будто семенами оной. И он будет здесь, будет там, будет, где Снежинка. В путь в тысячу ли, но лишь с ним одним, от бара в январе до морозного пейзажа сейчас. Он будет.
- Всё хорошо, - шепчет, перетаскивая всю его боль на себя, блокируя мозговые импульсы, что кричат, вопят в агонии и улыбается болезненно, ломко, но улыбается, скаля розовые зубы. Розовые и серые, как мыши с развороченным нутром. Ничего больше нет, никого больше нет, есть лишь они, и они будут.
- Нам нужно уходить, - шепчет тихо, проводя пальцами по его волосам, - Нужно уходить.
Слушает хриплый шепот, ломающийся и больной, и хочет смеяться нервно и нездорово, потому что он весь такой, вытянутый в струну, перепаханный чувствами, эмоциями, разорванный в клочья, с ядом внутри, который уже не вытащить, уже не вытянуть.
Он поднимает Эгира на руках, отправляясь в последний на сегодня путь. Последний, как путь на эшафот, но нет, они еще побарахтаются здесь, а повиснуть в петле на потеху публике еще рано.
Загребая ногами иллюзорный снег, он идет по снежной пустоши вдоль кромки седого моря, слушая крики далеких птиц с крыльями цвета крушения нефтяного танкера. В реальном мире он уходит из этого дома, оставляя за собой поломанные трупы, которые провожают их стеклянными глазами. Всё. Достаточно. Сегодня больше не будет убийств и боли.
Ньярлатотеп идет, просто идет вперед, унося Снежинку подальше от страшного места и от алтаря, что должен был спеть похоронную песню белому, но вдруг резко замолчал.
Он идет через улицы, пошатываясь, ловя на себе удивленные взгляды прохожих, но в его грезах все они превращаются лишь в сугробы и одинокие, ломкие кустарники. Он идет дальше, дальше, направляясь к себе домой, а там их встретит тепло и еда, и новый сезон любимого сериала, и много что еще. Там...
Иллюзия рассыпается миллиардами снежинок, осыпается вниз, как только они переступают порог.
- Сейчас всё будет, милый, - шепчет горячо на ушко Змея, проводит ладонью по его волосам, укладывает на подушки и нависает над ним, скользя мелкими поцелуями по шее, отрываясь и поднимаясь, направляясь в ванную.
Он не медик, вовсе нет, но кое-что умеет. Бинты, перекись водорода пенится на ранах, потом сделать примочку, вытереть кровь, попытаться перебинтовать.
Вот так, еще немного.
Ньярлатотеп сидит по турецки перед белым, аккуратно промокает каждую ранку, каждую царапину и нервно улыбается.
- Они хотели принести тебя в жертву, а пали сами. как мешки с дерьмом. Глупцы... Глупцы! Наивные смертные, их мир такой же глупый как все они. Нет! Мир не настолько... Они его отупляют. Люди, люди. На блюде! Я пожру их всех, как ничтожных свинок на скотобойне. За тебя. Моя любовь...
Последнее слово срывается с придыханием и словно нечто таинственное и ветхозаветное. Он никогда раньше не говорил об этом, не знал, не понимал. Теперь, кажется, признал. Теперь сказал, впервые о.
И замолчал.
Поделиться112018-09-24 14:30:19
Губы у него монолитные, словно срощенные солью, по снегу следом кровь — пунктир, миллилитр по миллиметр, капает — и не слышно более кроме момента падения — пустошь, тишь, и не кричат даже птицы, они не кричат слишком давно, достаточно, чтобы точно знать — самое страшное здесь остаётся море, здесь — Змей закрывает глаза, не переставая считать разы, когда он всё равно — широко и закрыто — вглядывается в небо, небо из северного вдруг становится красным и кровавым. Только почему-то не становится теплей, в висках у него — бой и бойня, боли нет — местом иллюзорного выстрела он жмётся к чужой груди, его виски созданы для пуль — только вместо патронов счёт ведёт сердце, всё хорошо, но почему тогда — уходить, он не может открыть глаза — снег на веках вдруг кажется непростительно тяжёлым, не может — губ, но разве там — снег? Стекло, игольно впивается в язык, игольно режет глаз изнутри, вдруг оборачивается с той стороны веретено — из вертикали вдруг ложится, переворачивается — ему так легче, так легче — и не надо убивать.
Он проваливается куда-то в мягкий как могила снег, вглубь, неистовой тяжестью не своей ноши — вглубь, и понимает — это просто шаг, а больно — больно, наверное, от взгляда, от взглядом — они словно вывинчивают, выковыривают в нём что-то, взращивают, только путают семена с иглами, пули с зёрнами — он улыбается им, но снег падает ему в полуоткрытый рот, и он воспринимает это как молчание — хлынувшее через край, всеми соцветиями по венам, всеми — под кожей, где было черно и красно — теперь только синюшность, розовеют тянутые гладкошитые на белом рубцы, странный, трупный румянец, лучшая память — только подхватывать один, тот, что поперёк горла, осознавая, что около был нож, но теперь в ладонь лишь не смышлёно просится пульс, как по-детски доверчиво, и он жмёт пальцы в кулак, отпуская кожу, отпуская сквозь набухающий сшитым шов.
— Мы же никуда не уходим, верно? Мы остаёмся здесь?
Это слово так нравится ему, что он замолкает ровно для того, чтобы услышать эхо, но эха нет.
— Остаёмся здесь.
Этот ответ на самом деле очень ему нравится, так, что он выводит его губами, прижимаясь к плечу, а потом — куда-то в горло, к ключицам, ищет её, опоры, конечно, руками — но почему-то так много уходит из под пальцев, Ньярл течёт, вытекает сквозь, непослушно убегает и кренится в бок, как падающая звезда — Змей понимает, что перестаёт его видеть, а потом в глазах что-то переворачивается — что-то переворачивается, пылает как взрыв и вдруг гаснет.
— Здесь...
Ньярл тает на его в глазах и в нём как снежинка, закованная в ладонь.
И первым он чует запах — чуждый и домашний по-своему, одновременно человечий, на него дышит перекись, вспоротая марля, что-то резко-спиртовое, должно напоминать о боли — только почему-то — в первую очередь о жизни, он чуть поднимается на локтях, ищет — ещё не окрепшими, сонными, липкими от морока — глазами снег, но белее всего здесь оказывается только он — хотя и его — будто разобрали на чёрное, синее красное, укрыли поверх мягким бинтом, как саваном, — укрыл — оправляет себя, сглатывая горечь, здесь только Ньярл и больше — нет, если отрицание измерять ещё и им — птицы умолкли, следом умолкло и всё — то, нездешнее, но отчего-то самое родное, где-то за стеной шепчет радио, а над головой — небо, стеклянное, августовское, темнеющее — Змей улыбается, ему всегда нравился потолок в этой квартире, всегда — хотя он привык видеть звёзды, а может и нет — ну хоть рассвет встречать, преданно вставая из под обнимающий руки, но.
Он его, конечно, слушает — озябший и ослабленный, но с последним — вдохом? словом? разницы так мало, что в пору смириться — вдруг переходит на дрожь, едва заметную, но болезную — словно возделали где-то под позвонком глубокую пахоту, но ошиблись — и попали вдруг в сердце.
Любовь, любовь, его — любовь, пусть о жертвах сказано так много, но о любви — они шептали что-то по ночам, они кричали — в подушки, в пальцы, в простыни, молчали — но и то было ясно, когда они сплетали пальцы, и с губ — только пугающая неопределенность всех живых устоев, перекроенных поцелуем как приговором, сейчас — сейчас это звучало благо и глупо, словно тост у эшафота. Тост за счастье.
Когда была выбита с ног опора.
— Не стоит поминать свиней, они ни в чём не виноваты, — слова вдруг на слух каменеющи и мертвы, но и пусть, под стать пальцам, у него зато глаза — жгутся, — В смысле — свиньи. Не они. Они же не знали, верно? Я тоже... я тоже не знал.
Не знал, что с того последнего шага прочь из звёздной пустоши прошло так мало, и так много — осталось вдруг за плечами, он дёргает — одним, словно сгоняя прочь оставшийся снег, но лишь тревожит раны — и волосы, тонкие, мокрые от крови, тонко ползут ему на грудь.
— Это не самое лучшее время для таких слов.
Поделиться122018-09-27 11:45:17
Слова текли, капали и рушились. Среди слов, раскалывающихся, как миры, его взгляд - ласковый и нежный, его взгляд сквозь пелену. Иной обнимает осторожно хрупкое тело, он здесь, он будет с ним. Не время? Нет, самое оно. Он хочет шептать о любви, которые впервые испытывал, это чувство у многолетнего, древнего создания - как первая влюбленность у романтичного подростка, как что-то новое, как не опробованная ранее сладость, которая после первого укуса становится любимой. Он будет шептать, будет кричать об этом, осознанно, а не в пылу страсти, осознанно, шевеля языком, губами, сбрасывая с них звуки, слова, такие робкие и аккуратные, такие сладкие и тягучие.
Всё как в первый вечер встречи, только не льется в бокалы сироп от кашля, только музыка звучит как похоронный колокол, только на губах кровь, а не помада. Но даже сейчас Змей выглядит так трепетно и нежно, так хрупко, словно снежинка в ладонях - вот-вот растает. Нет, не растает, будет с ним, всегда с ним.
- Самое время. Снежинка... Самое время, - перебивает последнее предложение, касается губами лба, скользит ниже, касается скулы, касается губ. Они горькие от крови, ничего. Поцелуй жадный, но аккуратный, тягучий как и слова, что капали сиропом, его язык внутри, вылизывающий последние кровавые капли. Даже сейчас он выглядит сексуально и желанно. И внутри всё дрожит, трепещет, хочется говорить много, много слов, но с губ срывается только хриплый выдох в чужие губы, согревающий и теплый, и ладони скользят по телу хаотично, беспорядочно, стремясь обласкать, обласкать всего его.
- Эгир.
Он так редко произносит имя, он всегда говорит Снежинка, предпочитая это прозвище, он всегда... Неважно. Сейчас Эгир, как стеклянная бусина на языке, как осколок льдышки в теплой руке, текущий и капающий прозрачными каплями. Сейчас...
Сейчас они.
Всегда будут они.
Не только он, а только вместе.
Иной улыбается. Он всегда улыбается, когда рад, да и когда ему больно - тоже. Это вечная улыбка, и пусть немного болезненная и кривая, пусть зубы красны от крови, черны от второй крови, пусть лицо перекошено слегка от болезненной жгучести, ничего. Это всё ерунда, такая ерунда. Пусть всегда будет они, пусть всегда...
Он касается, касается неуловимо и тонко, ведет пальцами по обнаженному телу, трогает осторожно и легко, чтобы не доставить неудобство.
- Помнишь?
Помнишь ли ты, как пришел сюда впервые. Помнишь ли ту горячую ночь только для двоих. Эти мысли возбуждают, ворошат воспоминания, тогда первый вздох и первый стон, тогда... Тогда они, не он и не он. Они.
Помнишь.
Улыбается тонко, скаля чуть зубы, водит пальцами по груди. Что-то скользкое - чуть ниже. Тонкое щупальце оглаживает бедра, оглаживает ноги, ползет чуть выше, обвивает его естество и слегка сдавливает.
- Ты даже сейчас...
Желанный. Слово растворяется на языке. Даже сейчас - желанный, даже сейчас я хочу тебя. Даже сейчас.
И памятую слова о щупальцах в спальне, применяет их сейчас, тихо смеется, обнимает ладонями лицо Снежинки. Пусть он сломанный, нет, он починит. Всё починит и всё будет хорошо. Пусть, пусть...
Пусть слова, пусть стон и пусть тяжелый вздох. Его щупальце скользит по всей длине, обвивает крепко, точно, кончиком надавливая на щель уретры, почти что щекоча.
- Даже сейчас я хочу тебя.
Склоняется к самому уху, шепчет горячо и желанно, шепчет... Обнимает свою Снежинку, прижимая к груди, утыкаясь носом в макушку, вдыхая его запах жадно, желая вдохнуть его всего, без остатка, всего-всего.
- Снежинка.
Вот, так уже привычнее. Так уже мило сердцу и так, как должно быть. Снежинка. Эгир. Снежинка. Сладкая, как сахарный лепесток, морозная, как кусочек льда, как ментол на языке. Сладкая и холодная, но он сделает теплой, и при этом не растворит на пальцах, оставит. Лишь сейчас, лишь сейчас...
- Снежинка... Моя... Сейчас время. Да. Я так хочу. Любовь. Моя любовь.
Он назначает час и минуту, секунду, когда скажет о любви и говорит это. Опять осознанно, хоть и в полузабытье. Но слова падают и скользят, разбиваются и оседают каплями сахарной патоки.
- А ты?
Смотрит. Взгляд - умоляющий почти что. Взгляд щенка, который надеется, что именно его заберут из приюта. Он захотел сейчас сказать это слово, как нажал на курок и сделал выстрел.
Как передвинул пешку.
Как в шахматной партии.
Шах и мат. Шах и мат.
Поделиться132018-09-27 17:42:31
Не самое лучшее — что говорить, и о чём, зачем губы, слова нужны — если болит и горит, то хотя бы красиво, красиво — вот весь смысл, слова у него под языком и в горле, он их замалчивает, наматывая на пальцы волосы, длинные, чёрные, с непослушностью раненых зверей, он не учитывает, конечно, что гореть тьма не умеет, не учитывает, раскрывая глаза — и смотря прямо, глубоко и вырезано, где чернота зрачков неотличима от вспыхнувшей радужки — гореть во тьме можно, он бы об этом говорил, не забыл, только сыпется вдруг золой с губ — что это? — признавать поражение перед концом — исповедь? отповедь? проповедь или раскаяние — только лоб перед идолом не разбит, других ран достаточно более чем — он смеялся бы ему в лицо, но расстояния так мало для смеха, выходит только скалить скользкие чёрные зубы, скалить так влюблённо, как не сможет волк для оленях — в эти моменты он всегда забывает, кто вдруг оказывается неправ и повержен, кто жертва, а кто ведёт — ловит его руку, там, у сердца, сплетает пальцы в замок с проглоченным ключем, и слова глотает вслед — то даётся тяжелее.
Ты боишься потерять, правда.
Правда, правда, правда, конечно — здесь нет даже надобности врать, столько говорить друг другу — и никогда о любви, только чувствовать — то ли общей кожей, то ли губами одних на двоих, это всё равно, что говорить друг другу о синеве море или о том, что огонь горяч. Пока один не ослепнет. Пока один не разучится отличать боль от не.
Его раны созданы под его руки как трещины в камне под скульптурный нож — чуть позже, конечно, но задумано специально для, он осознаёт это, когда понимает, что сейчас не испугался бы и огня — он разжимает, наконец, руку, выпуская чужую прочь и ниже, дышит — пытается дышать — ему в губы, не выдерживает, кусает, впервые не пробуя, но поедая — своя кровь поёт у него на языке родно и скользко, он бы забрал её себе — только чтоб выбить всю боль, надо Ньярла — до самого дна, а так хочется — чтобы остался.
Пригвоздить. И пальцами нащупывать под кожей хребет, скрывая всё под обычным объятием, жать к себе, боясь опрокинуть, но с тем и прося — пожалуйста, лишь бы, выдыхать — нет, только задерживать воздух, сжимать лёгкие до упора в грудь, порывистым разрывом исходясь в области сердца, и языком — цепко за чужой, ему нет надобности опускаться в омут с головой и в голову чужую — он всё знает, всё понимает и осознает, удушая интонацию ещё в зародыше, сцеловывая его слова ещё до звука — пусть хоть кричит.
Он будет кричать громче.
И пусть гореть — но красиво, и так ли прекрасна тьма, в золоте пылает ночное, вязкое, как оброненное в омут драгоценное, но чуть наоборот.
— Помню.
Он кивает, но выходит лишь податься ближе — не выходит на самом деле, расстояние уже минимально, дальше можно только врастать — не для того ли когти цепко грызут спину чуть поодаль от выступившей в изгибе кости, выходит — только воздух сквозь губы, сомкнутые, больно? — вряд ли, просто стыло, колко, горько, от крови — но внутри жжёт не она, схлынивает всё вниз послушным током — там, где вязко и послушно, где — он сжимает, наконец, зубы, не выдерживает — вскрикивает коротко, ломко, ломается беззвучно в спине — прогибается, ранами, судорогой в районе живота, и всем окрепшим, наполненным, твёрдым.
— Ты безумец. Ты... ах!
Шрамы на коже из прямых — вдруг ломанные, с каждым вдохом, рёбра вспороли бы грудь — но это раньше на уделе только вскрика, кричать, кричать ему в глаза, что он сошёл с ума — кто из? — бесспорнейшее из занятий, бессмысленней только попытка сдержать стон — нет, проигрывает, постыдно, утыкается носом, губами в его щёки, скулы острые, вырезанные, облизывает, ведёт языком — кровяным, он не знает, что горше — кожа или рана, разница нет, толкается бёдрами навстречу — в глазах темнеет, в горле тугой ком, к низу — пружина.
— Ты сошёл с ума...
Хочет докончить, довести до конца чужое дело — распять, но не алтаре, пусть — Змей сводит колени, тщетно, опомнится — поздно, выдохнет, рёбра у него — как механизм разрухи, вдохи не сосчитать, выдох — единый — на стоне, он не кричал даже когда изрезан был, не кричал — только слушал звук ножа в мясе, и почти, почти любил — и с голосом через край так мало разницы, так мало — а если так, то надо большего — он молитвенно терзает плечи, ключицы — за косточку острыми зубами, ниже, до груди — ниже — только вырваться, но Ньярл держит крепко — даже если нет, он всё равно не хочет вырываться, он хочет — опускает руку вниз, оглаживает пальцами поверх тугих сомкнутых колец, непривычно холодно — отчего тогда всё горит, сжимает поверх, не пытаясь согнать — нет, только знак, мольба, заклание.
Пожалуйста, крепче.
Больнее.
Ещё, ещё, ещё.
— Безумец...
Обнимает его бёдрами, всё ещё оставаясь недвижимым между — отпускает, опускает пальцы уже на кожу, горячую, слишком, не жжётся — отдёрнуть руку мысли нет, пусть и всё станет прахом, пусть до ожогов — ищет судорожно завязки-замки на чужих штанах, потом осознает, спустя секунду, взращённую до вечности и вдоха, что можно и без — рвёт, почти срывает — и тут же опять обхватывает ладонью, оглаживает, дразнит — вверх, сжимает, вряд ли больно, целует в шею и куда-то между ключиц опускается — и рукой тоже, ниже, ниже, выпускает когти, но ласка остаётся лаской — из вкрадчивой только в секунду резкая, рваная, судорожная — замирает, ждёт реакции, нет — и опять смыкает кольцо пальцев, смыкает губы — вдох, стон, слова — следом, он забывает, что хочет забрать свою же кровь, забывает о том, что ему больно, забывает само слово — боль, и снег уже меркнет, родной, милый смех, всё становится чёрным — и только потом он понимает, что это волосы.
Что это глаза.
Что это бездна.
Он забывает, что умирать вовсе не страшно.
Шея у Ньярла красная, чёрная, влажная от пота — он вдыхает, его кожу, горечь, металл, от сладости совсем мало, но язык ловит пульс — этого достаточно, это утоляет, это.
Он рукой, второй, свободной и онемевшей, наматывает на кулак чернильную прядь, тянет куда-то с упорностью дрессировщика, который точно знает, что зверь его сожрёт.
Сожрёт, играючи, но он-то чёртов мазохист.
— Ниже, прошу... — выдыхает, закрывает глаза, сам — подставляет шею с покорностью, которую приберёг после алтаря, страшная, животная, не человечья.
— ... сделай это губами.
Поделиться142018-09-28 13:20:04
Стоны, вздохи, такое родное, такое привычное, и будто не было страшных мгновений на алтаре, а кровь на снегу всего выглядит красиво. Белое и красное, белое и черное, словно приговор, словно молитва перед распятием, которого не будет. И все вокруг стихает, только небо над головой - высокое, смотрит звездами сквозь стекло, только небо... И они вместе, вдвоем, неотделимые друг от друга, как инь и ян. Ньярлатотеп лелеет эти мгновения близости, аккуратно выцепляет и сохраняет в груди, где бьется в едином ритме сердце, сердца, два, один и один, которые уже не могут друг без друга. Его любовь, любовь, его - слова застревает в глотке, вместо них рвется тихий и протяжный стон, когда лишь одно касание отделяет от неги, и вот оно. Вот оно, этот контакт, это прикосновение, оно здесь, всё здесь, и будет. Так будет. Как звезды между ребрами, как звезды внутри живота, порхающие и колкие, излучающие блеклый свет, они разгораются ярче, так что свет становится уже едва выносим.
И лишь прикосновения...
Он стонет, с губ срываются эквиваленты мольбы - продолжить, не останавливаться, продолжить, пожалуйста. Дрессировщик и зверь, который должен поглотить первого, и однажды это случится, однажды, но не сейчас. Сейчас лишь легкие касания и вздохи, срывающиеся с губ, на которых чувствуется чернильный привкус крови. Чужой, своей, уже всё перепуталось и неважно...
Он выгибает спину, когда чувствует, как его дрессировщик пошел ва-банк, обхватил и покорил, и может зверь склонит голову. Но сейчас он вскидывает её и прикрывает глаза, хаотично шарит затем губами, касается шеи, оставляет соцветия меток, своих меток. Это всё его, а он не делится ни с кем. И не будет. И не будет...
Раз метка, два метка. Еще, еще одна, и ниже, и ниже. Мелкими поцелуями он спускается, обводит языком сосок, ловит губами и всасывает, чтобы потом отпустить и склоняться дальше. Покорно, как перед своим хозяином, а ведь у него нет никаких хозяев. У хаоса их нет никогда, никогда. Только сейчас? Да, быть может.
Изо рта вырываются стоны, вырываются тихие слова, но что он шепчет - непонятно, кажется это язык далеких звезд. Он склоняется ниже, ведет языком по впалому животу, и дальше, и дальше.
Губами находит, находит то, что сокровенно, скользко после ласки щупальцем, продолжает вести, аккуратно и ломко, аккуратно и точно. Языком по всей длине, щекоча кончиком, а после обхватывая губами и поглощая, втягивая в рот, прикрывая глаза, стремясь доставить максимум наслаждения своей снежной королеве.
Выполняет приказ, команду, точно дрессированный зверь, который упрям, но в то же время податлив, который смотрит человеческим взором, осмысленным и ясным, который ловит каждый вздох и каждый стон, который только звучит в тишине.
Здесь когда-то звучала музыка.
Ведет, двигается, ртом даря удовольствие, почти что задыхаясь, но не выпуская, смотрит вверх и видит глаза, они прикрыты, но тонкая щель в разрезе доступно, там серое, седое море, там крики птиц и биение волн о скалы фьордов.
Улыбается про себя, так осторожно и нелепо, он сейчас покорен, и будет покорен ровно столько, сколько нужно. Приручить его нельзя, лишь договориться, лишь уговорить. Но он останется диким.
Скользкое щупальце, еще одно и еще одно - они скользят по белому телу, опутывая паутиной, охватывая собой. Раз, два, три. По одному на возбужденные комочки сосков, чтобы обвить и массировать, чтобы окружить собой и поглотить без остатка. И третье - потолще, оно там, где сокровенно, скользит между, и находить свой вход, проникая медленно и вкрадчиво, начиная скользить внутри, усиляя ощущения, усиляя наслаждение, находя нужную точку, надавливая и стимулируя, пока он продолжает порхать языком по плоти, окружив его собой со всех сторон.
Хаос везде, он облепил плотной пеленой, он здесь и всюду, он будет так, будет так... Без остатка. Без конца и края. Тишина.
Лишь музыка стона, мелодия вдоха и выдоха.
Лишь они здесь и сейчас.
Лишь, лишь...
- Снежинка.
Срывается с губ, когда он приподнимает голову, смотрит пронзительно и улыбается, продолжая делать свое дело. Обещал про щупальца - выполнил. С ним даже хаос держит свое слово, которое слишком зыбко и непонятно для всех других.
И вновь опускается, обхватывает рукой у основания и лижет кончик.
Смотрит.
Улыбается.
И словно не было алтаря.
И словно не было жертвы.
Словно обычный день для низ двоих.
Улыбка.
Смех.
Вздох.
Стон.
Поделиться152018-09-29 00:22:26
Воздух в горле будто подбитом, будто пробитом насквозь схвачен тонкой удавкой рук, но не на шее а ниже, он шепчет ему — неразборчивые молитвы в шею, в жилу, в сердце, потом уже в губы — хватается за язык своим, отпускает, целует щёки, ведёт по скуле, сцеловывает пот со лба как манну, вдыхает — волосы, горечь, и сыпется она сквозь пальцы, и сыпется как мир в его глазах — смотреть не обязательно, сквозь белесые ресницы всё равно всё черно и угольно, всё сведено из чувства до рефлекса, ниже только инстинкт — от того ли всё схлынуло и зреет, от того ноет — сладостно, просится, молится, сыпется, стонется — губы разворочены, ловят кислород, вязь волос — потому что те вдруг окажутся ниже, цепляется пальцами — как утопающий, лишь бы не потерять, равновесие пугает, всё — свободно и падко, рёбра арки ходят ходуном, подставляя под поцелуи грудь, — он вскрикнет, коротко, изогнётся навстречу, изогнёт губы, когда на алеющем комке плоти сожмутся чужие — ниже живот, там вдох, мышцы сожжены до тугих пружин, раны — тонкие нити, из нитей — вязь, и всё под губы, под губы — Змей жалеет, что в нём, что на нём так непростительно мало места для поцелуев, так много — из шрамов, рубцов, вязких цепей.
— Ньярл!
Не ощущает больше — но только пальцами, только руками — слепо шарит по воздуху, пальцы льдистые и непослушные, чужие будто, ощущение выше доходит не сразу — всё как ток под чужие губы, под пальцы, под смыкаемое над плотью, он кричит — выкрикивает, выстанывает его имя — не сразу понимая, что это именно его голос — и ломается, окончательно что-то ломается, сыпется с губ пылью, оседает в воздухе терпким, лихорадочным жаром, на коже становится влажно, там — как талый лёд, снег, хлынет кровь — сущий уголь, он кусает губы, до мяса, до вынужденного секундного молчания, не выдерживает — опять стонет, не до крика уже, до путаницы пальцев в чужих волосах, тянет — больше к себе, ближе, и толкается бёдрами, судорожно, ломко — будто бы и впрямь хрупка окажется кость, наматывает пряди на пальцы, на кулак, по три оборота у запястья — не рвёт, держит, тонкая привязь, иллюзорная, лишь бы чувствовать — чувствовать что-то кроме, потому что в Змее остаётся слишком мало, чтобы не сойти с ума.
А Ньярл это может.
А Ньярл это.
— Глубже... пожалуйста, глубже. Прошу...
Молельная снежная королева превращает губы в красный, пока из искусанных в сладость те не станут чернотой, на ресницах — белых, судорожных, тенью режущих скулы — чернеет смолой слеза, и ещё, и ещё — он смаргивает их, гонит прочь, инстинктивно раздвигает ноги, разводит колени — выдрессировано, почти по наитию, пусть и подчиняется словно бы и не он — он, он, конечно, вспоминает, вновь срываясь на крик — как секундами до, долгими, липкими, по коже ползут как слёзы — нет, щупальца — помнит, что просил, только тогда были звёзды, и Ньярл брал его на песке — хороший эквивалент холоду камня.
Он словно бы ещё чувствует алтарь резным хребтом.
Он словно опять жертва, но они, право, играют, только играют.
Словно в смерть.
— Ты... ах!
Везде. Везде и внутри — он сжимается, боязливо, рефлекторно, чувство всё ещё чуждо и непривычно — он пока не вдумывается в слово «неприятно», и отрицания нет, нет сплошного не — и ему хватает секунд, чтобы опять — опять стать ничем, раскрыться, застыть, сломать себе спину, обнажить горло, разворотить рот до крика и тонкой нити слюны, упавшей на живот, кто из них ещё безумец, кто — согласен, и он готов врастать, вжиматься в движение извне, осторожное — было бы, но он опять кусает губы, осознаёт наконец — больно и ещё что-то кроме, что-то кроме, что перекрывает боль, дыхание, сердечный ритм — но тот только замирает в висках, мёрзло и янтарно как время.
Ставшее ничем.
— Ты забыл смазку, но я... я хочу...
Хочу — достаточно, и земля окончательно — не только из под ног, но и сквозь пальцы, это — время, реальность, он ломает Иного, проникает в него, чуть глубже — точнее толчка, наматывая волосы уже до боли, до боли — до боли сужаясь самому, а потом вырастая — и врастая, протягивая нить между, выстраивая тонкое, лоботомическое, нечеловечье — и тут же теряется в нём, растворяется, рушится, хватается за самого себя как сущность, скользит по себе, выравнивает — и чувствует, чувствует себя не собой — и как пульсирует, и как упирается в мягкое нёбо, и какой он изнутри — узкий, тесный, почти тугой.
И как Ньярл его любит. Как Ньярл его любит. Незримо, несоизмеримо. И этого достаточно, чтобы разрушить его мир — достаточно и.
Крик. Вопль. Колени подгибаются, что-то в жилах сворачивается в свинец, внизу живота — сталь, тугая пружина и.
— Я хочу... жёстче!
И плещется через край, и солёно, и липко — и под чужие губы, но его бёдра гнутся ровно на чужими плечами, и не выпускают — и не отпускают из, и его — и его из себя тоже, смысл спасения только в чистейшем эгоизме, в том, чтобы оставить всё себе как трофей — он понимает это, считывает с глаз — чёрных, поволочных, почти понятных, считывает с губ, ставшими липкими, солёными — но ему так мало, так мало — и крови, и боли, и всего, что осталось кроме — так мало, что становится всё равно, и разжимаются руки, вернее одна — чтобы сомкнуться на щупальце, заскользить, направить в себя, — нет, не останавливаться, не замирать, — обжечься пальцами, пробраться к животу, оттереть там лишнее, липкое — протянуть, почти просяще, к чужим губам, размазать поверх, оставить следом, и следом — к груди, где тоже всё мокро, и сложить хребтом молитву, запрокидывая голову — и небо бело от снега, черно от ночи, от неги, от его волос.
И небо красно от крови.
Поделиться162018-10-01 18:08:11
Стон, крик, хрип. Звуки разгоняют адскую тишину, словно прорезь волн драккаром, пылающим в ночи, словно плавником обезумевшей акулы, жадной до крови и дыма, словно... Всё здесь и всего здесь нет, и новый стон, и новый крик, и под губами горячо, и снова, и снова. И хочется лелеять дальше каждый звук, бережно беря в ладони и сжимая в пальцах. Касаться, касаться каждого незащищенного участка тела, больше, больше.
А он везде. Он внизу, вверх, над, под, везде. Гибкие щупальца скользят будто змеи, обвивают, дарят наслаждения, заглушая боль.
Никакой боли. Он обещал. Это обещание свято.
Пока он рядом - боли не будет.
Только удовольствие.
Пусть как обманка, пусть как ширма от колючей жизни, невесомая и тонкая, но в тот же момент самая прочная на свете, что не пропустит шипы за.
Не пропустит.
Ньярлатотеп текучий, словно ручей, словно песок в пальцах, текучий, вьется дальше, раскрывая новые и новые грани удовольствий, щупальцами выискивая новые и новые точки, которые можно приласкать, подразнить, надавить или погладить. Он везде, просто везде, окружает и уже не отпускает. И уже - они вдвоем как единое целое, слившиеся и непонятно, где кончается один и начинается второй.
Он ласкает нежно, но страстно и с напором, завоевывает новые участки, толстое щупальце ходит ходуном, выполняя кричащие просьбы, срывающиеся с бледных губ, теперь налитых кровью от возбуждения. Его щупальца, его руки, его язык - всё находится в движении, бесконечном движении, как выстраивается парад звезд над головами и летят кометы, глядя на которые можно загадать желание.
А сейчас желание только одно...
И липко, и солоно, и он проглатывает всё, обводя губы языком, ползет как змея выше, чтобы найти чужие губы, искусанные в порыве страсти, чтобы впиться в них, припасть, как жаждущий к ледяной воде, чтобы нанести новые укусы на припухшей плоти, и погрузить свой язык, делясь со Снежинкой его же вкусом, передавая изо рта в рот то, что не успел проглотить, поглотить собой. И о себе он не забывает тоже - исчезает толстое щупальце, но ровно на секунду, а вслед пустота заполняется новым теплом, горячим, обжигающим.
Многого не нужно, он уже на пределе, и совершает лишь несколько размашистых толчков, продолжая терзать губы снежной королевы, несколько толчков, прежде чем наполнить собой под завязку, наполнить полностью и быть теперь уже точно - везде.
- Моя любовь, - хриплый шепот звучит в уши, обжигая дыханием раз за разом, - Моя любовь...
Не отпускает, не размыкает рук, укладываясь рядом, прикрывая глаза. Мокрый от пота, обнаженный, словно рожденный только что, в чем есть. Дыхание сбито, дыхание - скачет точно лягушка, дыхание и не свое, чужое, и... Выдыхает горячо вновь, ведя ладонями по обнаженному телу. Секс и кровь, секс и кровь. Это чудное сочетание.
Ловит его руку, поднося к губам, целует нежно и ласково пальцы, облизывает их от кровавых подтеков, он рядом, он здесь, он будет.
Просто будет.
Как данность тому, что должно быть, как картина настолько естественная, что берут сомнения - не фото ли. Не фото. Они нарисовали эту картину вдвоем, и сейчас в его мыслях этот образ. Белое, красное, черное. Три идеальных цвета. Три идеальных цвета, которые описывали их, как ничто другое. Хоть прямо сейчас вскакивай и беги рисовать кровавый инь-ян.
Но нет, он остается, лежит, предаваясь неге, щупалец уже нет, они все спрятаны, есть только он. Есть только Снежинка. Больше ничего в этом мире. И бесконечная россыпь звезд за стеклом, как данность хаосу.
Он ведет ладонью по щеке снежной королевы, вытирает со лба пот, целует в скулу и слизывает случайную капельку.
Его глаза говорят за него, а сам молчит.
И улыбается.
Счастливо.
Поделиться172018-10-05 23:08:40
Звёзды пляшут в его глазах воплем, валятся вбок кричащей и рваной тишиной — пустоты мира всего умещается в ранки, в трещинки губ, всё созданное, живущее, существующие — в расстояние выдоха, вдоха, выстрела, плача навзрыд, воя — закушенного, кровоточащего, он кричит о том, что они друг для друга созданы, взращены, врощены, вживлены по живому и дрожащему по ночам — рёбра под рёбра созданы, он жмётся к нему, остриями под кожные выступы, под кожу ему пальцами — он жить там хочет, забраться, спрятаться, драл бы вены, но у иного живого места нет только на лопатках, спина, ниже — гнутый хребет вьётся непослушной амплитудой прилива — ещё! ещё! ещё! — у Змея глаза такие, страшные, что видны только белки, он подкожный, поднежный, подснежный — и под ногтями кровь, он уверен, кто в кого бьётся, кто в кого просится, разбивается, сыплется, целует, ищет его губы, слепо на манер детёныша, пьёт и пьянеет — там металл, жуткое, липкое, кровь и белесое — они окончательно становятся циклом, пьют друг друга частями, больше жрут — но это только поцелуй, Змей лижет иному скулы, солёный пот со лба, солёным мажется по животу, по бёдрам, чует — и ему немного осталось, совершает последний толчок, поддаётся навстречу, нащупывает руками его хребет, пальцами рвёт, вычерчивает, у него руны — не раны — просто так не прочитать, не истолковать, наполняет себя собой, наполняет себя им до дна, до края и дотла, его — поит губами, пальцами, криком, стоном, гаснущим вдохом, влажной щекой, раскрытым ртом, языком.
А потом они срастаются, и пальцы — и пальцы режут их корнями, и крик — тишину, и гаснет, Змей захлебывается, Змей задыхается, его накрывает волной хуже той, что была век назад и была бездной, он ломает себе шею, ломает кость хребта, выгибается, повисая, провисая в чужих руках безвольно и безропотно, дышит — для его груди, судорожной, слишком мало места, он дышит в Ньярла, в его кожу — Ньярл стекает у него по бёдрам, каплями по коленям, дрожащим, Ньярл у него крепко и больно в нутре, голос иного режет разум как талое масло, как продольно поперенчый разрез по черепу, больно — вряд ли, больнее ниже и нежнее, он гнётся — назад, по губы как под плаху, слова — приговор, ему больше не надо, он ловит их — слизывает украдкой с приоткрытых губ — пальцем стирает, собирает в ладонь как разбросанные по полу патроны.
Волосы по подушкам. Шрамы на груди образуют амплитуду павших мостов.
— Я тебя тоже, Ньярл.
Павших основ.
— Я тебя тоже люблю, Ньярл.
Любит, может, с первой встречи, с первой ночи, с первого утра и звёзд, с первого побега, картины, застывших на бумаге глаз, любит — в звёздной пустоши, на песке чистой бирюзы, любит — болезненно, болезно и рвано, любит по сходимой траектории планет, любит как катастрофу, как неизбежность, как падение, как долгую тишину, наступающую после удара — и невыносимо долгую тысячу лет, наступающую после смыкания волн далеко надо дном.
Любит.
Руки созданы для плечей, рёбра созданы для пустот, губы — для того, чтобы обязательно быть в клочья и сладко целуется с них кровь, он ищет его — пальцами, ладонями, иной горячий — липкий, мокрый, солёный, на пальцах — остаётся кровь, последняя, обозначение всего, что было до, и борозды по спине — после, он оглаживает их, ласково, несмело, жмётся ближе — словно бы грудь его создана для него, и для того, чтоб к сердцу самого — головой, лицом, вдохом, выдохом, чует его — судорожное, рваное в бой, как бой часов, последний — выдыхает, молчит, слушает, сглатывает горечь, давится сладостью, нет, показалось, в рёбрах — самый ровный тон.
У Снежной Королевы на запястьях бледнеют рубцы.
Тянется — к нему, к шее, ведёт ниже, по каплям пота с ключиц, обводит сосок, играючи, выводит знак бесконечности, под рёбрами, в голове — что-то страшное, ломанное, нервней только дрожь ресниц — и губ, сказал бы что-то — нет, молчит, глотает слова, запирает, душит.
Даже не придумал — о чём, слепо выводит на рёбрах руны, закидывает бедро на бедро, белое к белому, ровные кусочки пазла, грани отчерчены кровью — он бы смеялся в голос, что всё так началось, что всё кончилось — так, что они сделали вид, что этого не было, и над изморозью царапин пылают новые — загораются подтёки влажных следов от щупалец, там, где всё было судорожней всего, он поворачивается — лениво, переползает на живот, чужой, на грудь — острым подбородком, только тогда позволяет себе улыбку — вымученную и словно сквозь слёзы, омывает в золоте ползущего взгляда чужую грудь, находит — губы, глаза лишь секундой после.
Опять влюбляется в них.
Как тогда.
— Напишешь об этом картину.
Не вопрос — утверждение, вызов на словах, звонких, ранимых, что-то душится тишиной — то, что должно быть следом, он хочет сказать что-то о камне, о крови, о снеге — хочет сказать, что было так много цветов, так много — запинается, находя пальцами чёрный, красный, белый — и ничего, он забывает, какой холод на вкус, оборачивается на небо — чёрное, красное, белесая просыпанная капель звёзд — такая же у него на пальцах и ниже, липнет к кожи знаком, что ничего больше нет, но всё ещё будет, волосы его, белые, кроют раны как саван, рассыпаны по ним и в честь них.
Он находит щекой плечо Ньярла и потребность быть похороненными отпадает за ненадобностью.












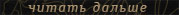











![Nex[t]us - 2155 год, Детройт](https://i.imgur.com/SlwXo0u.gif)
















